В. Г. Белинский. «Герой нашего времени»
(в сокращении)
План
-
Исторический обзор русской литературы.
-
Место романа «Герой нашего времени» в история русской словесности.
-
Глубина художественного обобщения в образе Максима Максимыча.
-
Мастерство Лермонтова в создании образов горцев, контрабандистов.
-
Грушницкий – олицетворение пошлого довольства жизнью.
-
«Субъективность» автора, «недосказанность» в обрисовке женских лиц.
-
Анализ образа Печорина. «Эгоист», «безнравственный человек»?
-
Состояние «рефлексии в русском обществе и в характере героя романа.
-
Соотнесение характера Печорина с условиями и обстоятельствами самой жизни: это «герой нашего времени».
-
Сопоставление образов Печорина и Онегина.
-
«„Герой нашего времени” – это грустная дума о нашем времени…»
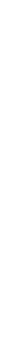
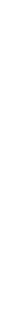
3. Критик подчёркивает, что замысел художника, идея произведения определяют и его образы, и взаимные отношения персонажей, и форму повествования. При этом развитие характеров, как и в жизни, зависит не от случайностей, а от обстоятельств. Характеризуя одно из «интереснейших лиц» романа – Максима Максимыча, Белинский показывает, что причина ограниченности умственного кругозора этого персонажа, помешавшая ему понять терзающие Печорина сомнения, «не в его натуре, а в его развитии», в обстоятельствах. Старый кавказский служака, закалённый в опасностях, трудах и битвах, провёл многие годы тяжёлой и трудной службы в условиях «затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях…» При этом критик отмечает, что у Максима Максимыча «чудесная душа, золотое сердце», что это «тип чисто русский… оригинальный характер, живой человек», который «каким-то инстинктом понимает всё человеческое и принимает в нём горячее участие». Он любуется Бэлою, любит её как милую дочь. Этот «добрый простак… и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он». По утверждению Белинского, глубина художественного обобще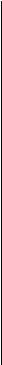
4. «Могучей художническою кистию обрисованы характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской народности»; рельефно выписана Бэла, «одна из тех глубоких женских натур, которые полюбят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются
ему в любви не тотчас…» Каким-то «особенным колоритом» отличается повесть «Тамань». Несмотря «на прозаическую действительность её содержания, всё в ней таинственно, лица – какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка…»
5. Юнкер Грушницкий «по художественному выполнению… стоит Максима Максимыча: подобно ему, это тип, представитель, целого разряда людей, имя нарицательное. Грушницкий – идеальный молодой человек, который щеголяет своей идеальностью, как записные «франты щеголяют модным платьем…» «Производить эффект» – его страсть. Он говорит вычурными фразами… один из тех людей… которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». «Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, – иногда тем и другим».
6. Слабее обрисованы, менее художественны образы Веры и княжны Мери: на них «особенно отразилась субъективность взгляда автора», и в них есть «что-то как будто бы недосказанное». «Лицо Веры особенно неуловимо и неопределённо. Отношения её к Печорину похожи на загадку. То она кажется вам женщиною глубокою, способною к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость, и больше ничего». Княжна Мери – девушка неглупая, но и не пустая. Её направление несколько идеально, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к которому влекло бы её чувство, непременно надо, чтобы он был несчастен… Печорину очень легко было обольстить её: стоило только казаться непонятным и таинственным и быть дерзким… Она допустила обмануть себя; но когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко по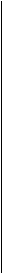
7. Говоря о главном герое романа, критик прежде всего обрушивается на «строгих моралистов», осуждавших Печорина и называвших его «эгоистом, злодеем, извергом, безнравственным человеком». Белинский бросает обвинение не критикам романа, а лицемерию всего современного общества: «Вы предаёте его анафеме не за пороки, – в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, – но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. Вы позволяете человеку делать всё, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат; но… требуете от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает и не действует… И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами… Но этому человеку нечего бояться»; в нём есть «сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое… Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти – бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь».
8. «Судя о человеке, – пишет Белинский, – должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою». Характеризуя состояние русской жизни, русского общества, критик говорит, что «наш век есть по преимуществу век рефлексии», т. е. глубокой неудовлетворенности окружающей действительностью. Состояние рефлексии в русском обществе Белинский объясняет исторически: «…оно отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие неопределённости, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности, через великую реформу Петра». Критик рисует клиническую картину рефлексии, «как болезни многих индивидуумов нашего общества». «Её характер – апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределённость желаний… безотчётная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено… в «Думе»…»
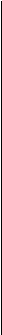
9. Поскольку именно обстоятельства жизни определяют тот факт, что Печорин не может выйти из состояния, в котором находится, т. е. рефлексия героя отражает эпоху и жизни общества, Белинский называет Печорина героем «нашего времени»: «Итак – «Герой нашего времени» — вот основная мысль романа». Этим критик подчёркивает объективное значение образа главного героя, доказывает, что Печорин – глубоко реалистический и жизненный образ, порождение русской действительности. Признав, таким образом, идею романа художественной (объективной), Белинский тем самым решает вопрос и о нравственности всего романа в целом и образа Печорина в частности: «Вы говорите, что он эгоист? – Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлит её страдание и оросит благодатный дождь, – и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви… Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, – и кто же эти «все»? – Пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними».
Критик рассматривает роман Лермонтова в связи с историческими особенностями эпохи, резко осуждает дворянское общество, в котором преуспевают «дюжинные посредственности» и ничтожества, а всё благородное и даровитое обречено либо на полное бездействие, либо на «пустую деятельность». Роман Лермонтова заставляет Белинского ещё раз вернуться к роману Пушкина и в конкретном сопоставлении выявить социальную сущность их главных героев.
10. Критик видит сходство Печорина и Онегина в том, что тот и другой были «отражением» типа человека, сложившегося в обществе того времени. Родственными этих героев делает их судьба незаурядного человека в обществе, внутренне ему чуждом: «Печорин Лермонтова… это Онегин нашего времени, герой нашего времени». В то же время Белинский видит различие героев: «Онегин является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому всё пригляделось, всё приелось, всё прилюбилось… Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несёт своё страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища её повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нём неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою». Критик приходит к выводу, что «Печорин выше Онегина по идее». Герой Лермонтова возвышается над Онегиным тем, что в нём равнодушие, апатия, хандра сменились страшной «тоской по жизни», жаждой жизни, деятельности, недовольством собой, самоанализом («он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений»), муками, поисками высшего смысла бытия. В Печорине отражается новый тип русской общественной жизни, жаждущий борьбы.
11. Белинский заключает: «Герой нашего времени» – это грустная дума о нашем времени…» Трагедия Печорина – трагедия человека эпохи безвременья. Критик сетует на то, что роман «оставляет нас без всякой перспективы».
Литература
Озеров Ю. А. Раздумья перед сочинением. (Практические советы поступающим в вузы): Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 114–119.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Сочинение М. Ю. Лермонтова
В. Г. БЕЛИНСКИЙ
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Сочинение М. Ю. Лермонтова
— Какой страшный человек этот Печорин! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек! » — хором закричат, может быть, строгие моралисты…В этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него.
— Пусть он клевещет на вечные законы разума, поставляя высшее счастие в насыщенной гордости; пусть он клевещет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клевещет на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостию, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!
— Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убеждениями, которым уже сам не верит…
— Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: действительность — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. — Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», что на языке философском называется рефлексиею. В состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии.
— Дивно художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер — апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно поэтической «Думе», исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие четыре стиха:
Ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови!..
— Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток художественной рельефности в изображении этого лица, но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к нашему времени.
— Итак — «герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почесться злою ирониею, потому что большая часть читателей, наверное, воскликнет: «Хорош же герой! » — А чем же он дурен? — смеем вас спросить. Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? И притом, разве Печорин рад своему безверию? Разве он гордится им? Разве он не страдал от него? Вы говорите, что он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе.
— Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви… Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — Пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — Нет, все это не эгоизм! Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою.
— В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее — обещает прекрасное будущее.
— А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию; это один из тех романов:
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом…
Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
— «Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха…
— В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между прочим, говорит: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность». Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. Такова благородная природа поэта. Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но, верно, уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов… А может быть и то: он сделает его и причастником радостей жизни, торжествующим победителем над злым гением жизни… Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни… Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастие, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины…
В. Г. Белинский
Критика В.Г. Белинского на роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» больше походила на хвалебную оду. Все в этом произведении рассматривалось критиком как прекрасное и возвышенное от красочного и правдивого описания мыслей и чувств, до реалистичных картин пейзажей. Он настолько проникается к роману Лермонтова, что даже его описание природы Кавказа и всей военной обстановки противопоставляется признанным работам Марлинского. В.Г. Белинский упоминает о том, что повести Лермонтова могут служить учебными для населения, благодаря своей точности описания.
По его словам «эта старая книга всегда будет нова…»
Подробнее: Статья Белинского о романе «Герой нашего времени»
Сочинения
Герой нашего времени Лермонтова — замечательное произведение, где писателю удалось запечатлеть своего современника, показать через человека и его образ свое время, идеалы прошлого времени, свои идеи. Данное произведение как можно точно раскрывает и обнажает прошлую эпоху, вот только каждый увидел героя по-своему. Так существуют различные мнения о Печорине — главном герое произведения, которые высказывали критики. Среди этих критиков был Добролюбов и Белинский, чьи мнения были совершенно противоположными. Давайте же в нашем сочинении рассмотрим мнение Белинского и Добролюбова, сравнивая их высказывания и цитаты по поводу Печорина.
Белинский о Печорине
Если обратиться к высказываниям Белинского, который называет Печорина страдающим эгоистом, то мы увидим, как тот защищает главного героя. Он не осуждает Печорина, напротив, в нем он видит неискаженное отражение проблемы своего времени, трагедии передового поколения, которому пришлось жить в сороковых годах. В герое Белинский видит человека с сильным духом, смелого, которому приходится искать себя по жизни, искать свое место, тратя энергию и силы впустую. Белинский называет Печорина жертвой общественного строя, который просто бездействует, так как по другому было невозможно жить.
Белинский защищает образ, созданный Лермонтовым, от нападок других критиков, подчеркивая, что прошлый век гнушал лицемерством. Он подчеркивает то, что Печорин имел грехи, много спотыкался, но нисколько не гордился содеянным. Герой не побоялся обнажить свои недостатки, не пряча их под притворством. Печорин осознает греховность, а это уже скачок к спасению. И я с Белинским соглашусь вполне, ведь Печорин, в отличие от других, хотя бы пытался бороться с бездействием.
Добролюбов о Печорине
Что же говорит Добролюбов о Печорине и какое его мнение? Если говорить о мнении Добролюбова, то сразу видим противоположное мнение. Добролюбов обвиняет героя. Видит только отрицательные характеристики. По мнению Добролюбова, герой произведения презирает людей, всегда пользуется их слабостями. Он считает героя человеком с холодным сердцем. Это человек, который все испытал еще в молодости и теперь все ему надоело, и науки, и женщины, и служба. Даже любовь девушки, которая ему нравится не спасает его, он отвергает чувства, ему надоедают отношения. По мнению Добролюбова, Печорин — это человек, который с удовольствием вмешивается в чужую жизнь, разрушая отношения, дерется без надобности, любит острить над глупцами и в этом вся его жизнь. Это человек, которому противны уже все удовольствия, он не понимает, куда девать свою силу и энергию.
Как видим, одно произведение, может вызвать разные мнения, и на примере критиков мы видим, насколько по-разному можно воспринимать героев произведения, но в этом и есть жизнь. Как говорится, невозможно повлиять одинаково на разных людей, у каждого есть свое мнение и это также прекрасно.
Ю.И. Айхенвальд
Для Айхенвальда роман открылся с глубоко художественной ценностью. Но в то же время критик отметил, что сам образ Печорина не слишком удался, а автобиографичность Лермонтова в нем уж слишком сильно прослеживается. С другой же стороны Айхенвальд оценил в положительном ключе саму ситуацию в которой очутился Печорин и как автору удалось удачно отразить его со всех сторон сквозь призму мнений иных героев. Критик пишет о том, что «Герой нашего времени» не смог бы стать полноценным романом без красочных описаний пейзажей и чувственных характеристик настроения и поступков героев.
Н.А. Добролюбов
Что касается Добролюбова, то он прежде всего воспринимал Лермонтова как поэта. И несмотря на то, что именно Пушкин был образцом для подражания Михаила Юрьевича, с точки зрения критика он значительно превосходил в поэтике даже Александра Сергеевича. Добролюбов, как и его соратники демократы, восторгался умением Лермонтова отразить в романе реалии времени без «слащавых пиететов».
Критик хвалебно отзывается о произведении и ставит Печорина в противовес его прототипу Онегину из Пушкинского «Евгения Онегина». Но с точки зрения Добролюбова Лермонтову удалось более грамотно и положительно составить образ Печорина как молодого аристократичного человека с большими силами, но вез занятия всей его жизни.
Подробнее: Статья Н.А. Добролюбова о романе «Герой нашего времени»: критика и оценка
( 3 оценки, среднее 4.33 из 5 )
- Сочинения
- По литературе
- Другие
- Статья Белинского о Герое нашего времени
Статья Белинского о Герое нашего времени Сочинение
БелинскийВ. Г. откровенно называл М. Ю. Лермонтова «творческой натурой», считая, что публика никогда не скрывала интереса к его сочинениям. Несмотря на всеобщее мнение о главном герое романа Герой нашего времени, ставшем отрицательной фигурой, критик встал на его защиту.
Все герои в романе «Герой нашего времени» сосредоточены вокруг центрального образа – Григория Печорина. Отношения, которые зародились и развивались на основе этих взаимосвязей, находятся в той гармонии, которая представляется автору идеальной. Критик сравнивает в своей статье организм человека с данным произведением, предлагая для сравнения органы человека и составляющие романа. По мнению Белинского, каждая часть романа содержит в себе определенный яркий образ. Однако части существует не отдельно друг от друга. Они живы в подобном составе, так как представляют только так законченный образ главного героя.
Мысль автора получила форму, обрастая чувствами. Погружая героя в разные ситуации, Лермонтов наделяет его качествами, характерного для героя того времени. В процессе знакомства с ним подчеркивает о внутренних терзаниях, которые внешне прикрыты улыбкой. Читателю лишь в конце произведения становится понятно, что все время над Печориным происходил суд. Постоянная борьба мучила героя, его душа, по сути, была больна. За шутками скрыта ложь, за умением кокетничать – желание мстить.
Белинский уверен, что Печорин пережил возраст юноши, оставил позади впечатлительность, готов к новым серьезным чувствам. С недоверием и охлажденными чувствами к жизни он ждет чего-то, переживая «хандру». Критик подчеркивает искренность в характере Печорина, этого не скрывает и сам герой, который видит в себе двух человек. Буря эмоций, дерзких поступков – это лишь постоянный поиск для выхода положительных поступков, а пока лишь эгоизм и расчет. Но он прекрасно дает себе отчет в том, что это недопустимые вещи.
К распространенным порокам Белинский относит и умение Печорина жестоко обращаться с представителями женского пола. Но и здесь он оправдывает героя, не снимая вины и с девушек, которые придумали светлое совместное будущее с Григорием, хотя он не давал обещаний.
Белинский подвел итог, что существующая в то время система ценностей подтолкнула героя к приобретению пороков, от которых он сам страдал не менее других. При этом сам автор романа разделяет мысли героя. Печорин так для читателя и остался ярким, но неразгаданным образом.
2 вариант
В статье, посвященной пафосу романа М.Ю.Леромнтова “Герой нашего времени”, В.Г.Белинский раскрыл образ Печорина с яркой неожиданной стороны. В главном герое романа критик увидел не эгоистичного злодея, но сильного решительного человека, страдающего от собственного безверия. Белинский не оправдывает безнравственность героя, но и не осуждает его внутренний поиск своего места в жизни.
Особое внимание автор уделяет рассмотрению повести “Бэла”. Смерть черкешенки не вызывает безотрадного тяжелого чувства, по мнению Белинского. Грусть от прочтения главы легка, светла и радостна. Смерть девушки явилась следствием разумной необходимости. Ведь как замечает Максим Максимыч, что стало с Бэлой, когда ее покинул бы Печорин? Образ девушки обрисован Лермонтовым не ясно, она мало говорит и действует. Однако благодаря таланту писателя, Бэла живо предстает перед взором читателей. Также как и Максим Максимыч. Образ старого служаки наделен “столь полными бесконечности” чертами. Сам штабс-капитан не подозревает о том, что его натура глубока и богата. Критик называет Максима Максимовича “старым младенцем”, добрым, милым и человечным, под грубой наружность которого скрывается горячее сердце.
Образ Печорина складывается постепенно, на протяжении всего романа. Белинский отмечает сплоченность героев произведения вокруг Григория. Кто-то из них смотрит на Печорина с любовью, кто-то с ненавистью. От этого происходит ощущения полноты впечатления. Печорин не положительный, но и не отрицательный герой, по мнению критика. Белинский считает, что роман Лермонтова — это не злая ирония, а отображение реальной действительности. На характер Печорина наложила свой отпечаток среда, частью которой он является. После восстания декабристов, в стране сложилась непростая обстановка. Многие разочаровались в былых ценностях и идеалах, что породило безверие и скептицизм в обществе. Таков и Печорин. “Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новых привязанностей”. Но судьба еще не предоставляет возможности герою для нового опыта. Следствием этого становится безверие Печорина, ложность его убеждений. Душа Печорина, по мнению критика, не каменистая почва, а иссохшая от зноя жизни земля, воскресить которую может только любовь.
Печорин близок Лермонтову, писатель не может отделить своего героя от самого себя. В его образе остается недосказанность, Григорий так и не раскрыл перед публикой своего настоящего лица. В таком недостатке, Белинский видит достоинство романа.
Также читают:
Картинка к сочинению Статья Белинского о Герое нашего времени
Популярные сегодня темы
- Образ и характеристика Кутузова в романе Война и мир Толстого сочинение
Кутузов — один из персонажей в романе Война и мир Л.Н. Толстого. В истории он является русским главнокомандующим в Отечественной войне 1812 года.
- Анализ сборника Шаламова Колымские рассказы
Произведение является одним из основных сочинений творчества писателя, над созданием которого автор работает около двадцати лет.
- Внешность и портрет Дубровского 6 класс сочинение
Дубровский – благородный разбойник, чья судьба непроста. Он описывается как молодой человек весьма смелый, сильный и решительный. Приятной наружности. Справедливый
- Сочинение по Тимуру и его команде Гайдара (рассуждение по книге)
Рассказ Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» до сих пор не потерял своей актуальности, ведь доброта по отношению к окружающим людям всегда востребована
- Главные герои Повестей Белкина (Пушкин) сочинение
«Повести Белкина»- цикл отдельных эпизодов, объединенных единым рассказчиком. У каждого рассказа свои персонажи и в определенный момент повествования одни герои сменяют другие
Присылай нам свои работы, получай litr`ы и обменивай их на майки, тетради и ручки от Litra.ru!
/ Критика / Лермонтов М.Ю. / Герой нашего времени / Герой нашего времени. Сочинение М.Ю. Лермонтова
Автор статьи: Белинский В.Г.
Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий до самых пошлых: те и другие связаны лестницею со множеством ступеней, в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам; за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и т. д. беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной беллетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или, по крайней мере, грамотности авторов. И потому-то все европейские литературы так плодовиты и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других беллетрическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскою читающею публикою. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. В век Екатерины литература наша имела Державина — и никого, кто бы хотя несколько приближался к нему; полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I; Капнист, Карамзин (говорим о нем не как об историке), Дмитриев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддерживали беллетристику того времени. С двадцатых до тридцатых годов настоящего века литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт, вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинством мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно (сравнительно с предшествовавшими и последующим) был богат блестящими беллетрическими талантами, из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большею частию мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романическим и драматическим движением и — несбывшимися яркими надеждами: «Юрий Милославский» подал большие надежды, «Торквато Тассо» тоже подал большие надежды… и многие подавали большие надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными… Но и в этом периоде надежд и безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого таланта, — мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает и которого последние произведения русская публика прочла в «Современнике» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают… Тридцатый год был роковым для нашей литературы: журналы начали прекращаться один за другим, альманахи наскучили публике и прекратились, и в 1834 году «Библиотека для чтения» соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность и их деятельности и бедность русской литературы… Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье; на этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы — внезапные проблески сильных и даже великих художнических талантов и, за немногими исключениями, вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего…» К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант г. Лермонтова. В «Библиотеке для чтения» на 1834 год напечатано было несколько (очень немного) стихотворений Пушкина и Жуковского; после того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где, кроме стихотворений самого издателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского и немногих других и где помещены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетрических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии; скрывшейся из периодических изданий с началом «Библиотеки для чтения». В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностию своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обстоятельств, и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился со своими стихотворениями и г. Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворения г. Бенедиктова — явление примечательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнею стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вследствие которой в «Библиотеку для чтения» попали стихи г. Красова и явились в ней с именем г. Бернета {1}, г. Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественною формою. После г. Красова заслуживают внимание стихотворения под фирмою — — {2}; они отличаются чувством скорбным, страдальческим болезненным, какою-то однообразною оригинальностию, нередко счастливыми оборотами постоянно господствующей в них идеи раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия; находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинства; люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости: таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностию. Во всяком случае, стихотворения — — принадлежат к примечательным явлениям _современной_ им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению.
Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о г. Кукольнике, поэте столь плодовитом и столь превознесенном «Библиотекой для чтения». Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как два, три счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей, из 3000 стихов, наберется до тридцати или, если хотите, или пятидесяти хороших лирических стихов, но драма от того не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни актеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет; но степень таланта — вот вопрос! Если талант не имеет в себе достаточной силы встать в уровень с своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. — Чтобы нас не подозревали в пристрасти, мы, пожалуй, упомянем еще и о г. Бернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии; но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же, талант г. Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта; но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновении и цветут одно мгновение! стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет.
Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий! {3}
И потому обратимся к _живым_. Но и из них только один Кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзия есть не современно важное, но безотносительно примечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним наряду, и долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизонте нашей поэзии взошло новое яркое светило и тотчас оказалось звездою первой величины. Мы говорим о Лермонтове, который, без имени, явился в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» 1838 года с поэмою «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», а с 1839 года постоянно продолжает являться в «Отечественных записках». Поэмы его, несмотря на ее великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особенного внимания всей публики и была замечена только немногими; но каждое из его мелких произведений возбуждало общий и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно новое, самобытное; всех поражало могущество вдохновения, глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни и резко ощутительное присутствие мысли в художественной форме. Пока оставляя в стороне сравнения, мы заметим теперь только то, что, при всей глубине мыслей, энергии выражения, разнообразии содержания, по которым Кольцову едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма его стихотворений, несмотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Кольцов не есть только _народный_ поэт: нет, он стоит выше, ибо если его _песни_ понятны всякому простолюдину, то его _думы_ недоступны никакому; но в то же время он не может назваться и поэтом национальным, ибо его могучий талант не может выйти из магического круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдин, в душ которого возникают вопросы, свойственные только людям, развитым наукою и образованием, и который высказывает эти глубокие вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он непереводим ни на какой язык и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» показывает, что Лермонтов умеет явления непосредственной русской жизни воспроизводить в народнопоэтической форме, единственно свойственной им, тогда как прочие его произведения, проникнутые русским духом, являются в той общемировой форме, которая свойственна поэзии, перешедшей из естественной в художественную, и которая, не переставая быть национальною, доступна для всякого века и всякой страны {Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье.}.
В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках «Отечественных записок» 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Бэла», написанною в прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения. — из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение, по-видимому, столь противоположных родов поэзии не редкость в наше время. Шиллер и Гете были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма; но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература Северо-Американских Штатов началась романом Купера, и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это оттого, северо-американская литература есть продолжение английской. Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление: мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирическою. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее — к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался и на роман: в «Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом седьмой) из неконченного романа его под названием «Арап Петра Великого», из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше, как превосходное беллетрическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно «Повести Белкина», принадлежат исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с большим развитием его художнической деятельности, он непременно дойдет до драмы. Наше предположение не произвольно: оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника.
«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в «Отечественных же записках». Теперь они являются, вместе с другими, с «Максимом Максимычем», «Предисловием к журналу Печорина» и «Княжною Мери», под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название — не прихоть автора; равным образом, по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он является каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами, но герой — как будто бы, показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений его по «Бэле» вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Наконец, в руках автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом, но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут. Наконец, вы переходите к «Княжне Мери», и туман рассеивается, загадка разгадывается, основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете наконец «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вам портрет «героя нашего времени», но странное дело! вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваше чувство еще грустнее и горестнее…
Эта полнота впечатления, в котором все разнообразные чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в единое общее чувство, в котором все лица, — каждое столько интересное само по себе, так полно образованное, — становятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, которой средоточие есть это одно лицо, вместе с вами смотрят на него, кто с любовию, кто с ненавистию. — какая причина этой полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли, которая выразилась в романе и от которой произошла эта гармоническая соответственность частей с целым, это строго соразмерное распределение ролей для всех лиц, наконец, эта оконченность, полнота и _замкнутость_ целого.
Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, западет в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы развертывается и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и наконец является совершенно особным, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть, и способствует впечатлению целого. Так точно живой человек представляет собою также особный и замкнутый в самом себе мир: его _организм_ сложен из бесчисленного множества _органов_, и каждый из этих органов, представляя собою удивительную целость, оконченность и особность, есть живая часть живого организма, и _все_ органы образуют _единый_ организм, единое неделимое существо — _индивидуум_. Как во всяком произведении природы, от ее низшей организации — минерала, до ее высшей организации — человека, нет ничего ни недостаточного, ни лишнего; но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своем месте: так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего; но всякая черта, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации; если они, несмотря на то, живут. — значит, что получившие ненормальное образование органы не составляют важнейших частей организма или что ненормальность их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса их явления, то есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченные образы. И такие произведения не лишаются чрез подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но, как в произведениях природы слишком неправильное развитие органов производит уродов, которые, родясь, тотчас и умирают, так и в сфере искусства есть произведения, не переживающие минуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства могут быть и переделываемы, и приноровляемы к случаю и к обстоятельствам, и о таких-то произведениях говорится, что в них есть и красоты и недостатки. Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится _одна_ красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, не способная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.
Все, что ни есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа: где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частном жизни, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организация есть сущность того процесса, чрез который является все живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны, так полны, окончены, словом, _замкнуты в самих себе_.
Но что же такое эта «замкнутость»? — спросят нас наконец. Отвечаем: эта вещь столько же простая, сколько и мудреная, — и удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же легко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы, и как часто делаются на них ответы! Вся жизнь человеческая есть не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разрешению. И что же? — для многих ли решена загадка и найдено слово? Отчего же так? Да оттого, что все вопросы и предлагаются и решаются _словом_, а слово есть или мысль, или пустой звук: кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в таинственном святилище духа своего носит возможность решения таких вопросов. — возможность, которая называется _предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденными идеями_ и проч., — для того слово есть мысль, и, услышав его, он принимает в себя значение, заключенное в этом слове. Причина такой _понятливости_ заключается в сродстве, или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым. Но и самое это тождество требует большего развития: иначе _понятливость_ тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у кого нет этого тождества с предметами его познания, для того слово — пустой звук: ухо его услышит слово, но разум останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы говорим, столько же просты, сколько и мудрены, и отвечать на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы попытаемся здесь навести читателей на идею того, что мы называем, в природе и искусстве, _замкнутостию_. Посмотрите на цветущее растение: вы видите, что оно имеет свою определенную форму, которою отличается оно не только от существ в других царствах природы, но даже и от растений разного с ним рода и вида; его листики расположены так симметрично, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такою заботливостию, с таким бесконечным совершенством отделен и изукрашен до малейших подробностей… Как роскошно-прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль… И какое, наконец, упоительное благоухание!.. Но все ли тут? О нет! Это только внешняя форма, выражение внутреннего: эти чудные краски вышли изнутри растения, этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание… Там, внутри его ствола, целый новый мир: там самодеятельная лаборатория жизненности, там, по тончайшим сосудцам дивно правильной отделки, течет влага жизни, струится невидимый эфир духа… Где же начало и причина этого явления? В нем самом: оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в этом зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет! Видите ли, в этом цветке все, что ему нужно: и жизнь, и источник жизни, и явление, и причина явления, и растительность, и все орудия, органы и сосуды растительности; а между тем, где вы усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и индивидуально: но где же пружина его жизни, исходный пункт его индивидуальности? где? Они _замкнуты_ в нем, потому оно есть совершенно целое, оконченное, словом — _замкнутое в самом себе_ органическое существо. Но растение связано с землею, в которой первоначально развивается и из которой получает питание, дающее ему материалы для развития и поддержания его бытия; посмотрите на животное: оно одарено способностию произвольного движения, оно всего носит себя с самим собою: оно есть и растение, которое растет из почвы и на почве, оно есть и почва, из которой и на которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление; вскрыв его организм, мы видим источник явления: там кости связаны сухими жилками, сгибы членов смазаны пасокою, которая заготовляется в особых железах, мускулы протканы нервами… Но и тут вы еще не все видите: возьмите микроскоп, увеличивающий в мильон раз, — и вас поразит благоговейным изумлением эта бесконечность организации: вы увидите, что и тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшие нити, полные первосущных сил природы, — и каждая ниточка, каждая фибра необходима для целого и не может быть ни исключена, ни заменена без искажения целой формы; между малейшими органами нет и такого пустого пространства, где бы мог улечься невидимый для простого глаза атом; все внутреннее так тесно и неразрывно слито с внешнею формою, что одно замыкает в себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе существо… Человек представляет, в этом отношении, несравненно высшее и поразительнейшее зрелище: сообщенный и слитый со всею природою — и тайною жизни природы, — он во всем, вне себя, видит осуществившиеся законы собственного разума, и великое _все_ нашло в нем свой орган, отделившись в нем от самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. _Общее_ и _безразличное_ стало в нем _частным_ и _особным_, чтобы через эту _частность_ и _особность_ снова возвратиться к своей _общности_, сознав ее. Закон _обособления_ и _замкнутости_ в частном явлении общего есть основной закон мировой жизни!.. И в искусстве он открывается с таким же полновластием, как и в природе: в уразумении тайны закона обособления заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запав в душу художника, _организируется_ в полное, целостное, оконченное, особное и замкнутое в себе художественное произведение. Обратите все ваше внимание на слово «организируется»: только органическое развивается из самого себя, только развивающееся из самого себя является целостным и особным с частями пропорционально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вот почему, например, роман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством действующих лиц, нисколько не похожих одно на другое, представляющий такое сцепление разнообразных происшествий, столкновений и случаев, поражает вас одним _общим_ впечатлением, дает вам созерцание чего-то единого, — вместо того чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множеством характеров и событий. По той же причине и каждое лицо в романе существует для вас само по себе; вы видите его перед собою во весь рост, во всей его характеристической особности, и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая роман вновь, хотя бы через двадцать лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-то уже видели его. Но _целое_ романа — его колорит, его индивидуальная особенность, его _нечто_, для выражения которого нет слова. — еще памятнее вам, нежели каждое слово в особенности: уже и лица всех романов и содержания их изгладились из вашей памяти, но с словами: «Ламермурская невеста», «Ивангое» {4}, «Шотландские пуритане» и пр., никогда не перестанут для вас соединяться совершенно различные понятия… Как какое-то неясное видение, как аккорд, внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас мгновенно пронесшееся, будет вам, как в тумане, представляться _индивидуальная общность_ каждого романа…
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
/ Критика / Лермонтов М.Ю. / Герой нашего времени / Герой нашего времени. Сочинение М.Ю. Лермонтова
Смотрите также по
произведению «Герой нашего времени»:
- Сочинения
- Краткое содержание
- Полное содержание
- Характеристика героев
В статье, посвященной рассмотрению пафоса романа “Герой нашего времени”, Белинский отнес Лермонтова к числу таких “сильных художественных талантов”, которые являются среди окружающей их пустоты очень неожиданно. Интерес, возбужденный к Лермонтову несколькими стихотворениями, помещенными в “Отечественных записках”, окончательно утвердился после опубликования романа “Герой нашего времени”. Эта повесть написалась не из желания заинтересовать публику, а из глубокой творческой потребности, которой чужды всякие побуждения, кроме вдохновения. Белинский отмечает, что роман Лермонтова производит “полноту впечатления”. Причина этого заключается в единстве мысли, которая порождает чувство ответственности частей с целым. Белинский особо останавливается на повести “Бэла”, после прочтения которой “вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна”. Смерть черкешенки не возмущает критика безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась вследствие разумной необходимости, которую мы, читатели, предчувствовали. Сам образ пленительной черкешенки обрисован с бесконечным искусством. Она говорит и действует очень мало, а мы живо видим её во всей определенности дивного существа, читаем в ее сердце.
Максим Максимыч, в свою очередь, не подозревает, как глубока и богата его натура, как он высок и благороден. Этот “грубый солдат” любуется Бэлой, любит ее, как милую дочь. Возникает вопрос: за что? Спросите его, и он вам ответит: “Не то чтобы любил, а так — глупость”. Все эти черты, столь “полные бесконечностью”, говорят сами за себя. В заключение Белинский отмечает: “И дай бы вам поболее встретить Максимов Максимычей”.
Белинский восхищается художественным мастерством Лермонтова, который в каждой части своего романа сумел исчерпать ее содержание и в типических .чертах “вывести все внутреннее”, крывшееся в ней как возможность. В результате всего этого Лермонтов явился в повести таким же творцом, как и в своих стихотворениях. “Герой нашего времени”, напишет Белинский, обнаружил силу молодого таланта и показал его разнообразие и многосторонность. Главным героем романа Лермонтова является Печорин. Основную проблему романтизма можно определить одним словом — “личность”. Лермонтов — романтик.
- Сочинения
- По литературе
- Другие
- Статья Белинского о Герое нашего времени
БелинскийВ. Г. откровенно называл М. Ю. Лермонтова «творческой натурой», считая, что публика никогда не скрывала интереса к его сочинениям. Несмотря на всеобщее мнение о главном герое романа Герой нашего времени, ставшем отрицательной фигурой, критик встал на его защиту.
Все герои в романе «Герой нашего времени» сосредоточены вокруг центрального образа – Григория Печорина. Отношения, которые зародились и развивались на основе этих взаимосвязей, находятся в той гармонии, которая представляется автору идеальной. Критик сравнивает в своей статье организм человека с данным произведением, предлагая для сравнения органы человека и составляющие романа. По мнению Белинского, каждая часть романа содержит в себе определенный яркий образ. Однако части существует не отдельно друг от друга. Они живы в подобном составе, так как представляют только так законченный образ главного героя.
Мысль автора получила форму, обрастая чувствами. Погружая героя в разные ситуации, Лермонтов наделяет его качествами, характерного для героя того времени. В процессе знакомства с ним подчеркивает о внутренних терзаниях, которые внешне прикрыты улыбкой. Читателю лишь в конце произведения становится понятно, что все время над Печориным происходил суд. Постоянная борьба мучила героя, его душа, по сути, была больна. За шутками скрыта ложь, за умением кокетничать – желание мстить.
Белинский уверен, что Печорин пережил возраст юноши, оставил позади впечатлительность, готов к новым серьезным чувствам. С недоверием и охлажденными чувствами к жизни он ждет чего-то, переживая «хандру». Критик подчеркивает искренность в характере Печорина, этого не скрывает и сам герой, который видит в себе двух человек. Буря эмоций, дерзких поступков – это лишь постоянный поиск для выхода положительных поступков, а пока лишь эгоизм и расчет. Но он прекрасно дает себе отчет в том, что это недопустимые вещи.
К распространенным порокам Белинский относит и умение Печорина жестоко обращаться с представителями женского пола. Но и здесь он оправдывает героя, не снимая вины и с девушек, которые придумали светлое совместное будущее с Григорием, хотя он не давал обещаний.
Белинский подвел итог, что существующая в то время система ценностей подтолкнула героя к приобретению пороков, от которых он сам страдал не менее других. При этом сам автор романа разделяет мысли героя. Печорин так для читателя и остался ярким, но неразгаданным образом.
Виссарион Белинский — Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Издание второе
Виссарион Григорьевич Белинский
Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Второе издание
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. Сочинение М. Лермонтова. Издание второе. Санкт-Петербург. В типографии Ильи Глазунова и Кº. 1841. Две части. В 12-ю д. л. В I-й части VI и 250, во II-й – 173 стр.
Давно ли приветствовали мы первое издание «Героя нашего времени» большою критическою статьею[1] и, полные гордых, величавых и сладостных надежд, со всем жаром убеждения, основанного на сознании, указывали русской публике на Лермонтова, как на великого поэта в будущем, смотрели на него, как на преемника Пушкина в настоящем!.. И вот проходит не более года, – мы встречаем новое издание «Героя нашего времени» горькими слезами о невозвратимой утрате, которую понесла осиротелая русская литература в лице Лермонтова!..[2] Несмотря на общее, единодушное внимание, с каким приняты были его первые опыты, несмотря на какое-то безусловное ожидание от него чего-то великого, – наши восторженные похвалы и радостные приветы новому светилу поэзии для многих благоразумных людей казались преувеличенными…[3] Слава их благоразумию, так много теперь выигравшему, и горе нам, так много утратившим!.. В сознании великой, невознаградимой утраты, в полноте едкого, грустного чувства, отравляющего сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожного в своих приговорах сомнения и охотно сознаться, что, говоря так много о Лермонтове, мы видели более будущего, нежели настоящего Лермонтова, – видели Алкида, в колыбели удушающего змей зависти, но еще не Алкида, сражающего ужасною палицею лернейскую гидру…[4] Да, все написанное Лермонтовым еще недостаточно для упрочения колоссальной славы и более значительно как предвестие будущего, а не как что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и само по себе все это составляет важный и примечательный факт, решительно выходящий из круга обыкновенного. Первые лирические пьесы: «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник», еще не могли составить славы Пушкина как великого мирового поэта; но в них уже виделся будущий создатель «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Русалки», «Каменного гостя» и других великих поэм… Толпа судит и делает свои приговоры задним числом; она говорит, когда уже не боится проговориться. Толпа идет ощупью и о твердости встреченного ею предмета судит по силе толчка, с которым наткнулась на него. Оставляя за толпою право видеть вещи не иначе, как оборачиваясь назад, не будем отнимать права у людей заглядывать вперед и – по настоящему предсказывать о будущем… Всякому свое: толпе кричать, людям мыслить… Пусть же кричит она, а мы снова повторим: новая, великая утрата осиротила бедную русскую литературу!..
Самые первые произведения Лермонтова были ознаменованы печатаю какой-то особенности: они не походили ни на что, являвшееся до Пушкина и после Пушкина[5]. Трудно было выразить словом, что в них было особенного, отличавшего их даже от явлений, которые носили на себе отблеск истинного и замечательного таланта. Тут было все – и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную форму, как теплая кровь одушевляет молодой организм и ярким, свежим румянцем проступает на ланитах юной красоты; тут была и какая-то мощь, горделиво владевшая собою и свободно подчинявшая идее своенравные порывы свои; тут была и эта оригинальность, которая, в простоте и естественности, открывает собою новые, Дотоле невиданные миры и которая есть достояние одних гениев; тут было много чего-то столь индивидуального, столь тесно соединенного с личностию творца, – много такого, что мы не можем иначе охарактеризовать, как назвавши «лермонтовским элементом»… Какой избыток силы, какое разнообразие идей и образов, чувств и картин! Какое сильное слияние энергии и грации, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Читая всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же время следишь взором за потрясенными струнами, с которых сорваны они рукою невидимою… Тут, кажется, соприсутствуешь духом таинству мысли, рождающейся из ощущения, как рождается бабочка из некрасивой личинки… Тут нет лишнего слова, не только лишней страницы: все на месте, все необходимо, потому что все перечувствовано прежде, чем сказано, все видено прежде, чем положено на картину… Нет ложных чувств, ошибочных образов, натянутого восторга: все свободно, без усилия, то бурным потоком, то светлым ручьем, излилось на бумагу… Быстрота и разнообразие ощущений покорены единству мысли; волнение и борьба противоположных элементов послушно сливаются в одну гармонию, как разнообразие музыкальных инструментов в оркестре, послушных волшебному жезлу капельмейстера… Но, главное – все это блещет своими, незаимствованными красками, все дышит самобытною и творческою мыслию, все образует новый, дотоле невиданный мир… Только дикие невежды, черствые педанты, которые за буквою не видят мысли и случайную внешность всегда принимают за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фолиантов могли бы находить в самобытных вдохновениях Лермонтова подражания не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бенедиктову и Якубовичу…[6]
Повторяем: небольшая книжка стихотворений Лермонтова[7], конечно, не есть колоссальный монумент поэтической славы; но она есть живое, говорящее прорицание великой поэтической славы. Это еще не симфония, а только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукою юного Бетховена… Просвещенный иностранец, знакомый с русским языком, прочитав стихотворения Лермонтова, не увидел бы в их малочисленности богатства русской литературы, но изумился бы силе русской фантазии, даровитости русской натуры… Некоторые из них законно могли бы явиться в свет с подписью имени Пушкина и других величайших мастеров поэзии… «Герой нашего времени» обнаружил в Лермонтове такого же великого поэта в прозе, как и в стихах[8]. Этот роман был книгою, вполне оправдывавшею свое название. В ней автор является решателем важных современных вопросов. Его Печорин – как современное лицо – Онегин нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются, – может быть, и не без основания, – на скудость поэтических элементов в жизни русского общества; но Лермонтов в своем «Герое» умел и из этой бесплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя целого, в строгом художественном смысле, почти все эпизоды его романа образуют собою очаровательные поэтические миры. «Бэла» и «Тамань» в особенности могут считаться одними из драгоценнейших жемчужин русской поэзии; а в них еще остается столько дивных подробностей и картин, в которых с такою отчетливостию обрисовано типическое лицо Максима Максимыча! «Княжна Мери» менее удовлетворяет в смысле объективной художественности. Решая слишком близкие сердцу своему вопросы, автор не совсем успел освободиться от них и, так сказать, нередко в них путался; но это дает повести новый интерес и новую прелесть, как самый животрепещущий вопрос современности, для удовлетворительного решения которого нужен был великий перелом в жизни автора… Но увы! этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и – исчезнуть во всей красе своей…
Прекрасное погибло в пышном цвете… Таков удел прекрасного на свете! Губителем неслышным и незримым, Во всех путях беда нас сторожит, Приюта нет главам, равно грозимым; Где не была, там будет и сразит. Вотще дерзать в борьбу с необходимым: Житейского никто не победит. Гнетомы все единой грозной силой. Нам всем сказать о здешнем счастье: «было!»[9]
Как все великие таланты, Лермонтов в высшей степени обладал тем, что называется «слогом». Слог отнюдь не есть простое уменье писать грамматически правильно, гладко и складно, – уменье, которое часто дается и бесталантности. Под «слогом» мы разумеем непосредственное, данное природою уменье писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь сжато, высказывать много, быть кратким в многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею с формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловие Лермонтова ко второму изданию «Героя нашего времени» может служить лучшим примером того, что Значит «иметь слог». Выписываем это предисловие:
Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям нет дела до нравственной Цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое к тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.



